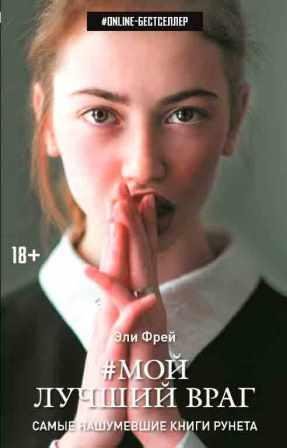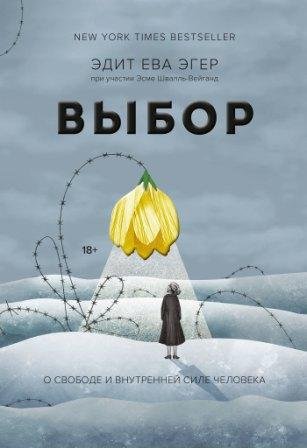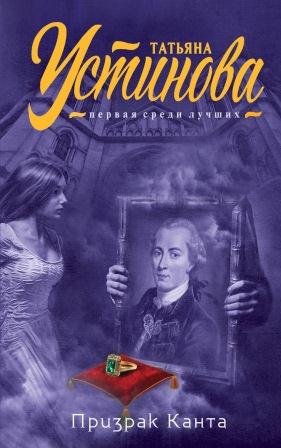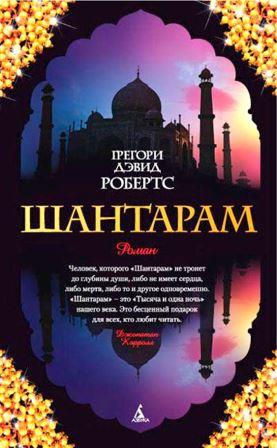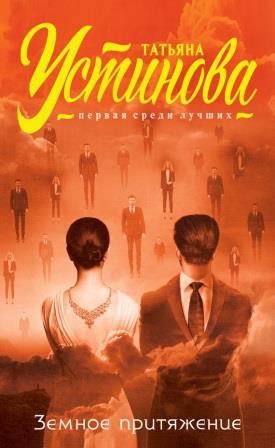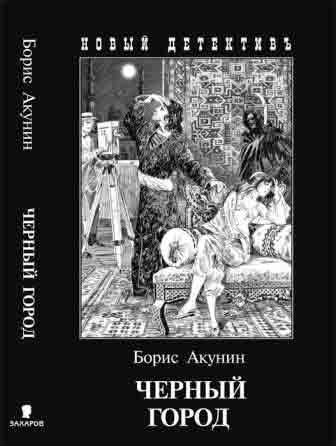Пристанище, в то время как он вынужден торчать на Бирючиновой аллее. А если уж быть до конца откровенным, то он злился на
друзей так сильно, что, не открывая, выкинул две коробки рахатлукулловского шоколада, которые они прислали ему в подарок.
Правда, сразу об этом и пожалел — после вялого салата, поданного в тот же вечер на ужин тётей Петунией.
И чем это таким они заняты? И почему он, Гарри, не занят ничем? Разве он не доказал, что способен на много, много большее, чем они? Неужели все забыли, что он сделал? Это ведь именно он был на том кладбище и видел, как погиб Седрик, именно его привязали к надгробию и чуть не убили…
Не думай об этом, в сотый раз за лето приказал себе Гарри. Неужели тебе мало того, что каждую ночь ты оказываешься на том кладбище в своих кошмарах, неужели нужно думать об этом ещё и наяву?
Он свернул в Магнолиевый переулок и вскоре прошёл мимо узкого прохода рядом с гаражом, где когда-то впервые увидел своего крёстного отца. Сириус хотя бы понимает, что сейчас испытывает Гарри. Конечно, и он не пишет ни о чём существенном, но его письма полны не многозначительных глупостей, а слов заботы и утешения: я знаю, как тебе сейчас тревожно и беспокойно… будь умничкой… соблюдай осторожность, не совершай необдуманных поступков…
Что же, думал Гарри, сворачивая с Магнолиевого переулка на Магнолиевое шоссе и направляясь в сторону парка, над которым уже сгущались сумерки, я, по большому счёту, так и поступаю. Я же не привязал сундук к метле и не улетел в Пристанище, хотя мне этого ужасно хотелось. Гарри вообще считал себя паинькой — если учитывать, как его злит и раздражает вынужденное сидение на Бирючиновой аллее и шныряние по кустам в надежде услышать хоть намёк на то, чем сейчас занимается лорд Вольдеморт. Но всё равно, совет не совершать необдуманных поступков от человека, который двенадцать лет отсидел в колдовской тюрьме Азкабан, бежал, предпринимал попытку совершить то убийство, за которое, собственно, и был осуждён; от человека, и теперь находящегося в бегах вместе с краденым гиппогрифом… нет, это, мягко говоря, бесит.
Гарри перелез через запертые ворота парка и побрёл по высохшей траве. Кругом было так же пустынно, как и на окрестных улицах. Он дошёл до площадки с качелями, сел на те единственные, которые ещё не были сломаны Дудли и его приятелями, обвил одной рукой цепь и мрачно уставился в землю. Больше он не сможет прятаться на клумбе. Завтра придётся изобрести новый способ подслушивания. А пока ему не светит ничего хорошего, кроме очередной тяжёлой, беспокойной ночи. Ему всегда снится что-то страшное: если не кошмары про Седрика, так обязательно какие-то длинные тёмные коридоры, ведущие в тупик, к запертым дверям. Гарри подозревал, что эти сны рождены той отчаянной безысходностью, которую он постоянно испытывает наяву. Шрам на лбу довольно часто саднил, но едва ли теперь Рон с Гермионой, да и Сириус тоже, сочтут этот факт достойным внимания. Раньше боль во лбу предупреждала о том, что Вольдеморт вновь набирает силу, но теперь, когда и так ясно, что он вернулся, друзья, скорее всего, скажут, что шрам, собственно, и должен болеть… не о чем и беспокоиться…
И чем это таким они заняты? И почему он, Гарри, не занят ничем? Разве он не доказал, что способен на много, много большее, чем они? Неужели все забыли, что он сделал? Это ведь именно он был на том кладбище и видел, как погиб Седрик, именно его привязали к надгробию и чуть не убили…
Не думай об этом, в сотый раз за лето приказал себе Гарри. Неужели тебе мало того, что каждую ночь ты оказываешься на том кладбище в своих кошмарах, неужели нужно думать об этом ещё и наяву?
Он свернул в Магнолиевый переулок и вскоре прошёл мимо узкого прохода рядом с гаражом, где когда-то впервые увидел своего крёстного отца. Сириус хотя бы понимает, что сейчас испытывает Гарри. Конечно, и он не пишет ни о чём существенном, но его письма полны не многозначительных глупостей, а слов заботы и утешения: я знаю, как тебе сейчас тревожно и беспокойно… будь умничкой… соблюдай осторожность, не совершай необдуманных поступков…
Что же, думал Гарри, сворачивая с Магнолиевого переулка на Магнолиевое шоссе и направляясь в сторону парка, над которым уже сгущались сумерки, я, по большому счёту, так и поступаю. Я же не привязал сундук к метле и не улетел в Пристанище, хотя мне этого ужасно хотелось. Гарри вообще считал себя паинькой — если учитывать, как его злит и раздражает вынужденное сидение на Бирючиновой аллее и шныряние по кустам в надежде услышать хоть намёк на то, чем сейчас занимается лорд Вольдеморт. Но всё равно, совет не совершать необдуманных поступков от человека, который двенадцать лет отсидел в колдовской тюрьме Азкабан, бежал, предпринимал попытку совершить то убийство, за которое, собственно, и был осуждён; от человека, и теперь находящегося в бегах вместе с краденым гиппогрифом… нет, это, мягко говоря, бесит.
Гарри перелез через запертые ворота парка и побрёл по высохшей траве. Кругом было так же пустынно, как и на окрестных улицах. Он дошёл до площадки с качелями, сел на те единственные, которые ещё не были сломаны Дудли и его приятелями, обвил одной рукой цепь и мрачно уставился в землю. Больше он не сможет прятаться на клумбе. Завтра придётся изобрести новый способ подслушивания. А пока ему не светит ничего хорошего, кроме очередной тяжёлой, беспокойной ночи. Ему всегда снится что-то страшное: если не кошмары про Седрика, так обязательно какие-то длинные тёмные коридоры, ведущие в тупик, к запертым дверям. Гарри подозревал, что эти сны рождены той отчаянной безысходностью, которую он постоянно испытывает наяву. Шрам на лбу довольно часто саднил, но едва ли теперь Рон с Гермионой, да и Сириус тоже, сочтут этот факт достойным внимания. Раньше боль во лбу предупреждала о том, что Вольдеморт вновь набирает силу, но теперь, когда и так ясно, что он вернулся, друзья, скорее всего, скажут, что шрам, собственно, и должен болеть… не о чем и беспокоиться…