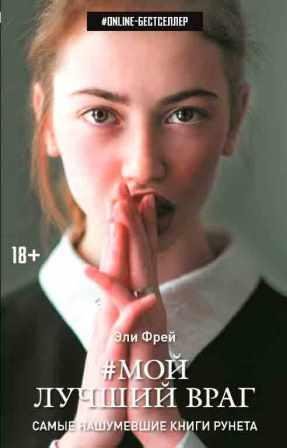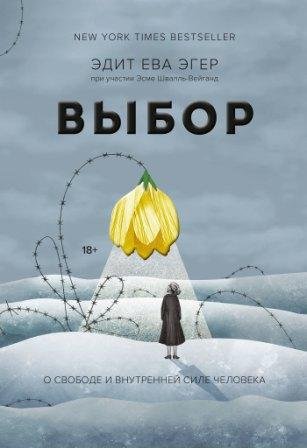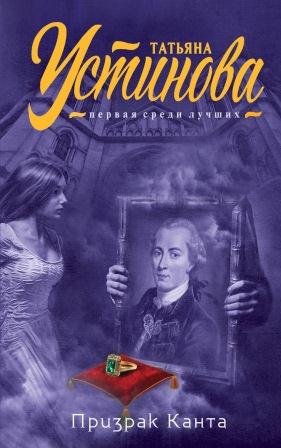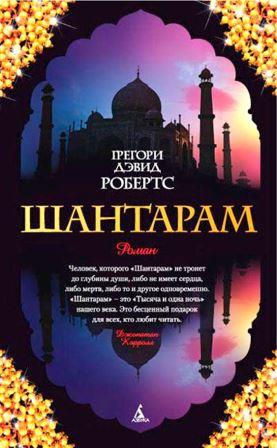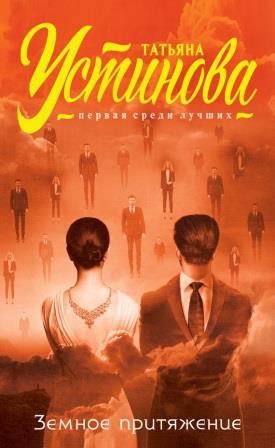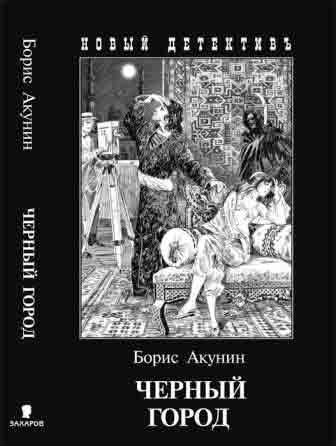Часть первая
1
Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же
революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская
— вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины
не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама,
светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и
в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в
родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго,
что на Взвозе.
Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр,
от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь
ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих
детей.
Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на
правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного
птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где
возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать,
когда все съехались, когда наступило облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка
еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и
проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали.
Эх… эх…
Много лет до смерти, в доме №13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила
Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади
«Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на
зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные
башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время
мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли,
что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не
заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая
скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с
блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся
на берегу шелкового озера в райском саду,